Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]
Вечером, как уж повелось, Катерина Авдеевна поджидала меня у калитки.
— Боже мой, да на тебе лица нет, милый! Что же ты с собой сотворяешь! — всплеснула руками. Я беспечно отмахнулся.
— Все пустое, Катерина Авдеевна! Не смотрите на меня как на привидение.
— Да ты хоть ел чего?
В приливе буйного восторга я схватил ее за талию — тучную, надо заметить, талию — и закружил по двору. Она не вырывалась, но оттого, с каким усилием переставляла ноги и как деревянно обозначилось ее лицо, я догадался, что добрая женщина вполне может рухнуть из моих рук на капустные грядки. Бережно усадил ее на травку. Признался:
— Быка бы сейчас слопал, великодушная Катерина Авдеевна!
За ужином хозяйка сообщила тревожную и приятную новость. Два раза приходила Фрося и набивалась приносить по вечерам парное козье молоко.
— Эх, Владимыч, — укорила хозяйка. — Совсем ты, гляжу, закрутился. Какие у тебя могут быть с Фросей дела? Она девица на выданье, а ты пожилой мужчина, семейный. Это куда годится? Нешто побаловать удумал, так ведь зазорно. Не похвалили бы тебя родители, были б живы! Смотри, Владимыч, и до беды недалеко. Не успеешь глазом моргнуть, а она уж за спиной. Вон ты разок уж сходил в клуб, покрасовался.
Меня предостережение только рассмешило. Вознамерился я было бежать разыскивать Фросю, но что-то остановило. Что-то голова моя клонилась к столу. Видно, крепко притомился за день. Спал эту ночь без сновидений, и даже комары не тревожили.
Вскоре я научился вызывать галлюцинации по собственной воле, причем среди бела дня. Находил в лесу укромную полянку, ложился под кустиком в холодке. Закрывал глаза и начинал грезить. Для того чтобы вызвать из небытия отчетливое воспоминание, нужно было только расслабиться, отключиться от лесных звуков и шорохов и затем сильным движением бровей напрячь какой-то нервный узел над переносьем. Поначалу меня окутывало теплое марево без цвета и запаха, нежное, как пуховое одеяло, потом из этого марева начинали вырисовываться контуры лиц, отголоски слов, и наконец я возвращался туда, куда хотел вернуться, и встречался с теми, с кем хотел повидаться. Очаровательная, упоительная игра! Настоящее исчезало, хотя при желании в любой момент можно было в него вернуться, открыть глаза на лесной поляне. Так я и поступал в тех случаях, когда воспоминание затягивалось, приобретало нежелательную мрачную окраску, вырывалось из-под контроля. Это бывало при встречах с родителями. Свидания эти приносили мало радости и удовлетворения. Эпизоды былого восстанавливались в точности так, как они случились прежде, вплоть до интонации и нюансов. Отец, умерший от сердечного приступа, по-прежнему со страстью осуждал меня за немужскую профессию (он сам был водителем локомотивов), обижался и психовал из-за каждой мелочи, будь то плохо выглаженная рубашка или слишком громкий звук радио за стеной; мама часто плакала и уговаривала повременить с женитьбой, но главное, я остро ощущал, что их обоих нет в живых, и оттого трепетал и вздрагивал от каждого прикосновения и слова. Старался быть терпимее и нежнее, запоздало скрасить родителям жизнь, но поневоле взвинчивался, вступал в споры, язвил и побыстрее, не дожидаясь истерики отца и слез матери, возвращался на поляну. Чувствовал себя после этого разбитым и измочаленным.
То, что происходило со мной в то лето, не было сумасшествием в обычном смысле слова. Все свои действия и сны я контролировал разумом. Скорее это была какая-то неистребимая, мощная восторженность духа, позволяющая раздвинуть границы реальности и опрокинуть власть времени. Разумеется, я давал себе отчет, что такого не бывает с людьми в обычном состоянии и не должно быть. Сознавал, что, видимо, благодаря какому-то болезненному надлому психики проник в область запретного, обрел способность ирреального самопогружения и, возможно, за это придется расплачиваться дорогой ценой. Расплаты не боялся и страха в себе не ощущал. Напротив, никогда прежде я не был так упоительно одурманен жизнью, так бесстрашен и мудр и, если уж начистоту, так наивен и невинен. За все горести, невзгоды и разочарования человек расплачивается дешевле, чем за минуты счастья, коли они ему выпадают, и я готов был платить по самому крупному счету, умоляя небо единственно о том, чтобы очарование это продлилось, не оборвалось, как обрывается жизнь в самый неподходящий момент.
Однажды я повидался с Андреем Левашовым, любовником жены. Это уже после того, как он Алену от себя отлучил, и после того, как она вернулась домой, прожив несколько месяцев у родителей. Она вернулась неузнаваемая: постаревшая, с затравленным, извиняющимся взглядом. Увидел ее, чуть не заплакал: чужая женщина, мать моих детей, еле живая воротилась в дом, где была хранительницей очага. Вскоре понял, ничего не поправишь, любовь и просто доброта по отношению друг к другу испарились. Нам предстояло долгое бессмысленное совместное угасание, жизнь в масках на виду у детей, у знакомых. Мне тогда и в голову не приходило, что могу оставить семью. На кого, собственно, оставить? Да я бы ни минуты не был спокоен вдали от них, сгорел бы от стыда. Оказалось, что в растительном существовании есть своя прелесть. Растительным называю такое существование, когда дни за днями идут одинаково, по раз и навсегда заведенному распорядку и не нарушаются вмешательствами извне. Тут есть хотя бы такое удобство, что весь жизненный путь можно легко проследить с любого места до самого конца, до последней неизбежной точки, а значит, нет надобности мучиться неясным страхом перед завтрашним днем. Одно остается — дети. Они растут-подрастают, набираются ума, а ты знай себе приглядывай, поругивай да похваливай вовремя да успевай водить к врачу, если заболеют. Многие так живут, и те, которые смирились, избежали бурь житейских, по-своему благополучны и довольны. Последние годы мне доставляло особое удовольствие наблюдать, как дети, взрослея, удаляются от меня и от матери. Это тоже укладывалось в схему растительной жизни, так как соответствовало биологическим законам.
То, что обрушилось на меня в деревне Капустино, выпадало из естественного хода событий и свидетельствовало, как я теперь понимаю, о каком-то исподволь созревшем психическом заболевании. Мы плохо знаем свою природу и думаем, что с ней можно шутить шутки, запирая ее под замок, либо вовсе не принимать в расчет. Опасные, кощунственные шутки. Природа свое возьмет рано или поздно.
На встречу с Андреем Левашовым отправился под утро, задремав после большой и удачной охоты на комаров. Случайно заметил его через стекло в пивном баре. Прежде, помнится, удивился, увидев лощеного Левашова в этом заведении перед двумя кружками пива, с отрешенным взором сосущего копченую рыбешку. Я тут же зашел в бар и в автомате налил себе кружечку. Пробился к его столику. Мы давно не встречались и не созванивались, а до этой истории приятельствовали, в шахматы играли по субботам. Левашов — интеллигентный человек лет сорока, хорошо одетый, отутюженный, кажется, он занимал солидную должность в каком-то НИИ. Я этому верю, потому что в его обращении была характерная для крупномасштабных работников покровительственная простота. Он был красивым мужчиной с этаким насмешливым взглядом серых глаз и волнистыми каштановыми волосами. Женщинам должен был непременно нравиться. Они охотно клюют на снисходительное покровительство сильных, высоких мужчин.
Подошел к нему, вежливо поздоровался и, глядя в его замутившиеся глаза, испытал вдруг необычайное волнение. Тогда, десять лет назад, я не заметил, а сейчас почувствовал, что он — умница и ловелас — панически меня боится. Почувствовал свою абсолютную власть над ним, да что над ним! Я ощутил быструю, торжествующую власть над всем происходящим. В тот-то, прежний раз я мгновенно потерял решимость, что-то мямлил, нелепо и некстати интересовался его делами, жаловался на дурную погоду, а теперь спросил сразу и твердо, хотя, если учесть, как высоко я поднялся, мне и спрашивать не было нужды. Да так уж спросил, для забавы. Чтобы ему пивко подгорчить:
— Скажи, Левашов, только одно. Ты хоть сознаешь, что походя искалечил жизнь женщине, которая тебе и не нужна была, а заодно — и ее детям? Ты ведь вроде Гитлера, Левашов, только рангом помельче.
Он начал хватать воздух открытым ртом и возмущенно оглядываться, но я его мигом успокоил, стукнув под стойкой коленом.
— Не юродствуй, Левашов, не надо! Конечно, я мог бы тебя наказать, но ведь ты не поймешь, за что наказан. Ты бессознательно гадишь под каждым удобным деревом, как шавка. Жалко мне тебя, Левашов. Ты прожил жизнь как животное, а главное, иначе и не мог прожить, потому что ты и есть животное. Если с тебя сдернуть твой наносной лоск, то люди с содроганием увидят свиное рыло. Забавно, не правда ли, Левашов?
— Какое, собственно, право…
— А ведь ты считаешь себя благородным, да, Левашов. Считаешь себя тонкой штучкой, да? Ублюдок ты и больше никто!
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/uploads/posts/books/122894/122894.jpg)
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/uploads/posts/books/133327/133327.jpg)
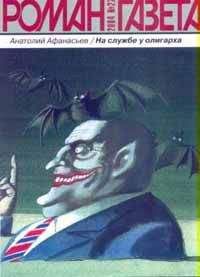
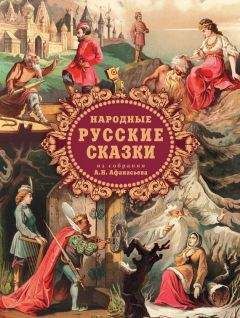
![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/uploads/posts/books/237651/237651.jpg)